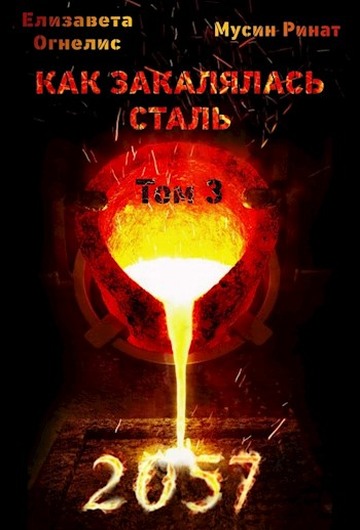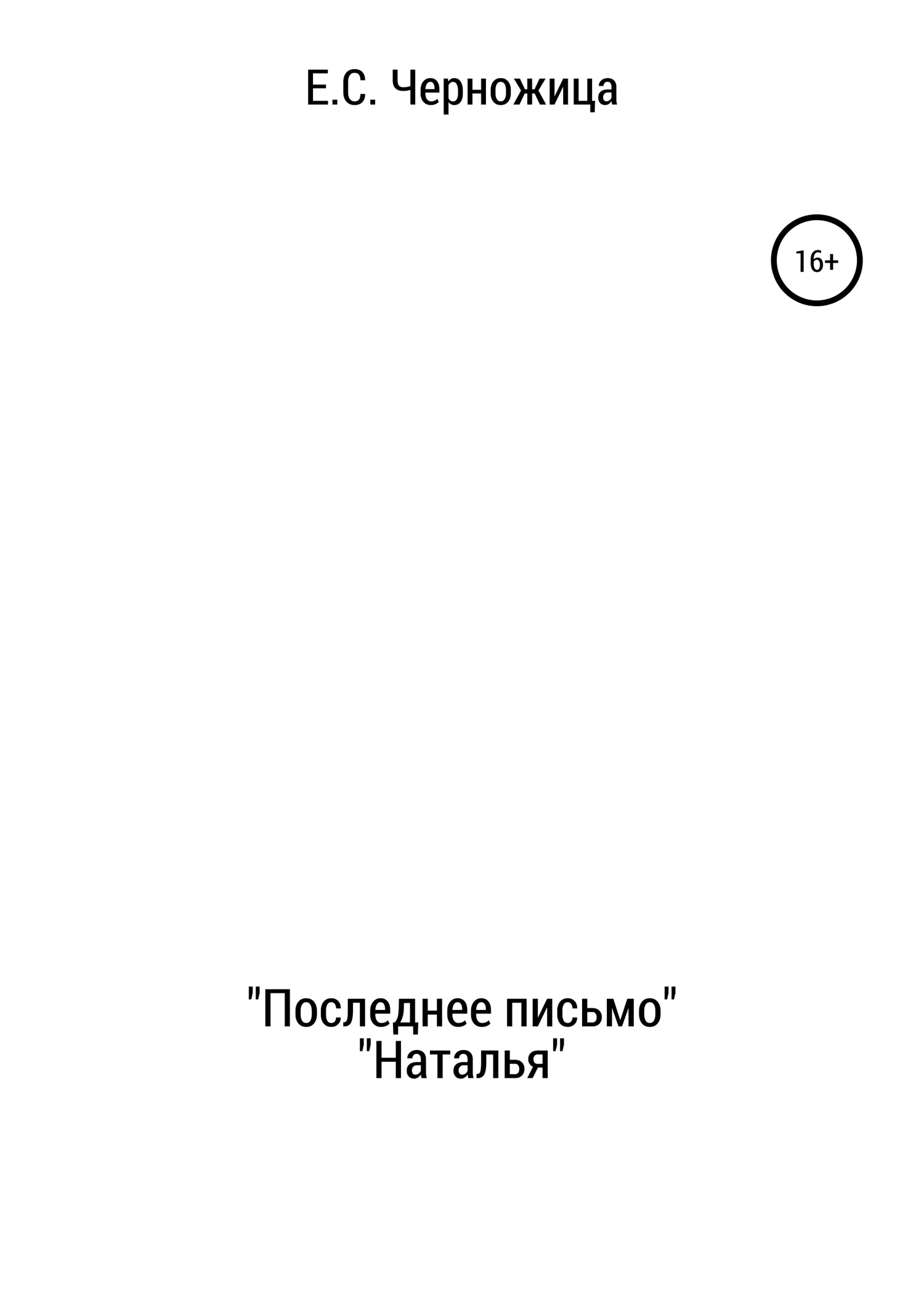Из мастерской послышалось кряхтенье генератора, пахнул дым. Сашка поморщился — топливо генератор жрал безбожно.
— Часик подержим, выключим, а перед уходом еще включим, — подошел Андрюха. Он хотел еще что-то сказать, но замер на месте.
— Налоговая, — прошипел Сашка.
Человек в костюме, с зонтом и папкой под мышкой вышел из «каморки», что приткнулась к мастерской. За ним выпрыгнули двое — с автоматами. Утробно квакнула сирена — и тотчас стали появляться люди, не только мужчины, но и женщины. Но больше всего, конечно, милиции. Они словно бы и не обращали внимания на двух работяг, ходили, словно по собственной квартире.
— Постановлением суда Судуйского района за номером… от числа… года… вам запрещается трудовая деятельность, на вас накладывается штраф за несанкционированное использование земли, весь урожай и техника берется под арест, — скороговоркой проговорил подошедший «пиджак с папочкой».
— А вы чего прятались? — спросил Сашка, все еще в недоумении от увиденного.
— Эй, куда! — прикрикнул он на того, кто полез в кабину грузовика. «Автоматы!» — бешено пронеслась в голове мысль. — Там бак дырявый, счас замкнешь чего — костей не соберешь!
Спецназовец с хрюканием вылез, держа в каждой руке по «Калашникову».
— Смирнов Александр Сергеевич, вам предъявлено обвинение по пунктам Уголовного Кодекса…
Человек в майорских погонах говорил что-то еще, но Сашка уже не слушал. Перед глазами стояло лицо Наташи, навалившаяся усталость сминала плечи.
— Это не мое, — огрызнулся он. — Знать не знаю…
— Свидетельские показания… — завел песню майор.
Александра замутило, он почувствовал, что еще мгновение, и рухнет в обморок.
— А вот и понятые пожаловали, — усмехнулся «гражданский», указывая папочкой за спину Саше.
— Что такое? — раздался голос Шпакова.
— Ай, беда-огорчение! — подхватил Наиль.
Поворачиваться не хотелось. Позади друзья, товарищи, хорошие люди, которых он все-таки подвел, которые сейчас не захотят свидельствовать против него. Или захотят? Не захотят — заставят…
— Я — Гаврила. Работаю с вами, — произнес сквозь шум дождя светлый и сильный голос. И тотчас необыкновенная тишина заполнила все вокруг, словно капли перестали барабанить, перестал кашлять генератор, выть сушилка, вмиг стихли разговоры. Сашка почувствовал, как сила и уверенность возвращаются, пальцы стали железными, сжались в кулаки.
— Вы задержаны! — закричал майор. — Стрелять! На поражение! — и закашлялся, словно поперхнулся словами.
Лязгали затворы, люди в хаки странно запрыгали, кто — на корточках, как лягушки, кто — на прямых ногах, будто козлы. Женщины в юбках рванули курицами к милицейским машинам. Правильно, негоже бабам лезть в мужиково дело! Гаврила шел, легко ступая, поглаживая правой рукой болтающийся у бедра автомат с куцым стволом, с толстым магазином.
— Бегите! — заорал вдруг Сашка. — Беги, сволочь! Чего уставился, морда?!
Он оттолкнул «папочку», пошел прямо на здоровенного детину, который с все возрастающим недоумением на лице жал на спусковой крючок маленького в его руках автомата.
— Один на один! А? Гад… паскуда… урод поганый… падла… — говорил врастяжку Сашка, сгребая с земли арматурину. И тотчас в груди словно лопнул пузырь, отдавшись в легкие, в глаза, в уши, в руки, в мозг. Сашка уже не кричал, берег дыхание, все предметы вокруг стали необыкновенно четкими, ноги сами собой согнулись, и со всего маху, сверху вниз — по незащищенным ногам, по сухой кости. Раздался треск — Гаврила стрелял одиночными, быстро, по одной пуле — на каждого.
— Так тебя! — выдохнул Саша, взметнул свое оружие и обрушил на каску, на ненавистные глаза, полные недоумения и боли. Только потом заметил, что спецназовец уже мертв — пуля прошла сквозь бронежилет, остановила сердце. Гаврила менял магазин, Сашка подхватил оружие убитого, поставил предохранитель на «одиночный».
— Ложись, — тихо сказал Гаврила. — Я сам.
Гигант пошел, легко перешагивая через трупы, быстро водя тупым стволом, изрыгая пламя: вправо, влево. Завизжали женщины. Потом все стихло. Саша поднялся, за ним — все остальные. Шпаков обалдело мотал головой, Наиль криво ухмылялся:
— Первый раз вижу… Как котят, а?
Андрюха Павин спросил, невозмутимо отряхивая штаны:
— А кто это?
Гаврила выбирался из зарослей крапивы, автомата при нем уже не было.
— Поговорим? — предложил он.
— Еще как, — проворчал Шпаков.
— Завтра мы смещаем власть, — поверху прошла вспышка, громыхнул раскатисто гром. Саша поморщился — все это походило бы на второсортный боевик. Если бы не тяжесть автомата в руке. Если бы не три десятка трупов вокруг, треть — женщины. Если бы проснуться…
— Власти больше не будет. Мы так решили. Для себя.
— А мы куда? — с нажимом спросил Шпаков. Саша заметил, что Серега втихарца тоже взял «калашник», спрятал за широченной спиной.
— Против или вместе — нам все равно. Вы — живите. Вы — хорошие, — Гаврила расплылся в улыбке. Он стоял, один против четверых, такой жизнерадостный, такой обезоруживающий, что хотелось улыбнуться в ответ.
— Почему? — спросил вдруг Наиль.
Улыбка погасла на лице Гаврилы:
— Они не выживают. Не живут. Хотят жить за счет других. Вы живете для себя. Честные. Самая близкая пропорция. Разум и желания. Тело и мозг. Другие — плохие, патологическое развитие, — гигант словно рубил воздух словами. — Мы изменим кое-что в мире. Не волнуйтесь, временно. Некоторых законов не будет на время, остальные мы отменяем. Человек не должен жить по выдуманным законам. Законы природы неизменны. Мы некоторые на время отменим. Трудно говорить словами. Нет сути. Плохой способ передачи информации. Это оружие может стрелять, — добавил Гаврила ни к селу, ни к городу, развернулся и исчез, растворился в сгущающемся мраке, в пелене дождя.
Кашлял генератор, сипел воздух под зерном, а четыре друга стояли под дождем, наблюдая, как медленно уходят под землю трупы, оставляя на мокрой траве оружие и подсумки.
— Это оружие может стрелять, — медленно произнес Наиль.
— Андрюха, выключи ты генератор, — бесцветно сказал Шпаков.
— Это оружие может стрелять, — повторил Наиль. — А остальное, получается, не может, — хитрющая азиатская усмешка озарила его лицо. — Комбайн мы в лесу оставили. Горючка кончилась. Надо брать на завтра литров сто сразу.
— Да погоди ты с «завтра», — рявкнул Шпаков. — Сегодня бы прожить. Ах ты мать-перемать за четыре ноги! Сашок, ты нам хотел об этом рассказать? — Андрюха указал дулом в землю, на которой только что были тела.
Александр с удивлением посмотрел на друга. Да, это только с виду Серега — увалень. Соображает быстро, умен, чуть ли не телепат, даром рожа — кирпичом… Силен, сообразителен, прошел армию, вся юность в лесу, вся молодость — в цеху, все умеет, любую железку в дело приспособит… Отличный солдат…
— Поехали домой. По дороге обмозгуем, — приказал Шпаков. Он старался не выдавать нервного напряжения, старался быть таким, как всегда — сильным, уверенным в своей правоте. Но все видели, как дрожали пальцы, как посинели губы. Серегу трясло. Наиль улыбался своей фирменной улыбочкой — такую Саша уже видел пару раз, перед тем как татарину выпадало резать баранов на «курам байрам». Он собрал все оружие, которое только смог найти — или, точнее, — которое им оставил Гаврила. Андрей Павин поминутно облизывал пересохшие, побелевшие губы. Но тревога и страх товарищей не передались Александру. Он давно ждал этого, мечтал, готовил планы, и когда понял, что его мечта осуществима — больше не боялся.
* * *
Вечером они собрались снова в квартире Наиля. Саша едва подавлял желание встать, заорать что то яростное, схватить один из автоматов, которые Наиль разложил на полу в маленькой комнате. Спокойно, брат, спокойно. Только по началу кажется, что революция — это приподнятое настроение, веселые лица, яркие краски, много дел и все удается. Черта с два — удается! Читали, помним, знаем. Много писали добровольные наблюдатели революции, много наговорили про апатию, про полный упадок, про разгром и разруху. А вы что думали? Революция — это как ремонт — приступать надо с серьезностью, морда кирпичом, хочется — не хочется, а делать надо. Всю мебель убрать, люстру красивую снять — и сразу тусклой, холодной и чужой кажется комната. Потом надо обои старые срывать, пылью давиться. Потолок соскребать, дохлых тараканов килограммами выносить, ломать, крушить, выдирать — чтобы потом, уже даже без любви, но с остервенением — делать заново, аккуратно, точно, филигранно. А пока терпите кислые морды и всеобщую апатию. И аресты терпите, и расстрелы, и виселицы из каждого фонарного столба. Так она делается, революция. По крайней мере здесь, у нас, в Судуе…